|
2011/1(3) Содержание Теоретическая культурология Межуев В.М. Пелипенко А.А. Историческая культурология Вишленкова Е.А. Прикладная культурология Астафьева О.Н. Быховская И.М. Гуманитарные исследования Жукова О.А. Малая культурологическая энциклопедия Бондарев А.В. Шестаков В.П. Юбилейные даты Мошняга П.А. Рецензии Суханова Т.Н. Чистякова В.О. Научная жизнь Севан О.Г. Севан О.Г. |
УДК 008.001.14 Вишленкова Е.А. Темпоральность и восприятие времени в российском университете XIX в. (Часть 1) Аннотация. Рассмотрено участие культурной и социальной категории времени в структурировании университетской жизни России XIX в., в контроле над корпоративными отношениями и в строительстве университетских иерархий. На основе текстов личного происхождения и делопроизводственной документации выявлены темпоральные особенности университетского сознания, отразившиеся на поддержании и изобретении традиций.
Ключевые слова: российский университет, социальное время, корпоративная культура, Российская империя, темпоральность, антропология символики Разные времена В статье обобщены наблюдения, сделанные в ходе многолетнего изучения университетской культуры России XIX в. Оно убедило меня в том, что отечественный университет сформировался и существовал как институционально и идеологически объединенное микросообщество. Его главная функция − производство элит – не позволила рекрутированным в него людям превратиться в членов эзотерической группы под названием «ученое сословие» (определение из университетского Устава 1804 г.). Но культура университетской корпорации обрела специфические черты, отличающие ее не только от «неучей», но и от «академиков», а также от неинституциализированных интеллектуалов. Особые отношения со временем и пространством являются одной из характерных ее черт и образуют своего рода внутреннюю границу, отделяющую университариев от прочих россиян. В самом общем виде эти отношения можно выразить так: за исследуемое время профессора антропологизировали время, т. е. сделали его равноправным участником (субъектом) корпоративной коммуникации и наделили пространство признаками объектности.
При описании наблюдений были использованы термины «время» и «пространство» в двух значениях:
1) как измерение всех аспектов опыта и практик данной социальной группы; 2) в качестве культурных универсалий мышления и языка университетского человека. Речь идет о «социальном (университетском)» времени, с одной стороны, и о темпоральных ощущениях и их категоризации, с другой. Соответственно, темпоральность рассматривается как сеть форм и элементов мировоззрения, использование которых создает возможность изучения феномена культуры. Она же включает в себя социальные механизмы конструирования времени [1]. Необходимо подчеркнуть, что выдвинутый тезис об антропоморфизации времени в университетской культуре работает отнюдь не на всем протяжении XIX в. Созданные в 1804 г. в четырех городах России ученые корпорации первое время разделяли темп жизни и отношение ко времени городских обывателей. С точки зрения современного человека жизнь в Харькове, Казани, Дерпте, Вильно и даже Москве тогда текла весьма неспешно. Ее темпоральные определения носили локальный характер, размечаясь солнечными или механическими часами. Регулируемое часами культурное пространство города сигментировалось конфессиональными и социальными границами, а физическая локализация университетских людей в нем создавала зоны проживания и место службы.
Несмотря на звонкое определение, подобно всем служащим империи ученое сословие было включено в общую «Табель о рангах». Соответственно продолжительность их пожизненной службы была задана законодательными документами, исходящими от правительства. В уставных документах были очерчены и границы учебного округа, т.е. пространство служебной деятельности университетского человека. До 1831 г. учебный округ был реальным участником коммуникаций: университетские преподаватели ездили в гимназии и училища на визитации, получали письма учителей, встречались и беседовали с учениками, обсуждали единые учебные пособия, а также успехи обучения в правлении, профессорском совете, цензурном комитете и научных обществах [2]. Огромное пространство государства, поделенное всего на шесть округов (Казанский, например, охватывал территорию от Нижнего Новгорода до Дальнего Востока), разброс училищ на карте империи, труднодоступность мест, в которых они нередко находились, делали это общение сверхзатратным и в денежном, и в физическом, и во временном отношениях. Причем в силу нечеткости и непредсказуемости путей сообщений, определить объем затрат не представлялось возможным.
Ситуация стала меняться в ходе латентной реформы университетского образования 1820-х гг. Это было время перекодирования идеи университета. Западная Европа и Россия по-разному прошли через него. Наполеоновская Франция дала миру пример отдельной институционализации науки и обучения (академия и институты). А активность В.Гумбольдта создала новый тип университета в Германии, расколов гомогенное университетское пространство на «доклассическую» и «классическую» зоны. Восприятие этих процессов в России проходило в контексте становления национального сознания. Примечательно, что «университетские истории» в Западной Европе (т.е. кризис и реформы университетов) породили у значительного сегмента российских элит разочарование в самой идее университета. Это проявилось в служебных «записках» с предложениями отказаться от университетской системы вообще, дебатах в Министерстве народного просвещения и, наконец, привело к ревизиям и последующим «обновлениям» высших школ Казани, Харькова и Петербурга. Их суть состояла в модернизации и национализации университетов. Следствием этого стало появление «русских», «польского» и «немецкого» университетов в империи, а также соединение в них двух процессов: производства и трансляции знания. В 1830-е гг. занятие научными исследованиями, а также интерактивная работа со студентами вошли в служебные обязанности университетского человека. В связи с этим определить и законодательно установить темпоральные условия службы профессора вновь оказалось невозможным (хотя и по другим причинам). Стремящееся упорядочить и дисциплинировать деятельность всех служащих в империи, правительство оказалось бессильным установить четкие временные границы для деятельности преподавателя. В распорядительных текстах удалось отмерить только объем учебных занятий и ввести наказания за их нарушения. В начале XIX в. преподаватель в среднем читал две или три двухчасовые лекции в неделю, один час посвящал «наставлению кандидатов» (своего рода аспирантов) [3]. В 1830-е гг. нагрузка возросла до восьмичасовых лекций [4]. «Содержание и достоинство преподавания немало выиграли и от того, что, по новому Уставу, Профессоры обязаны читать лекции почти вдвое более против прежнего /по 8 часов в неделю/ и только в случае крайности, могут брать на себя преподавание двух предметов» [5]. В царствование Николая I порицанию подвергались те университетские преподаватели, кто «самопроизвольно располагает учебным временем» [6].  Тогда же университарии перестали объезжать учебные заведения округа. Это, с одной стороны, замкнуло их жизнь в пределах города, получившего на ментальной карте империи статус «университетского», а с другой, способствовало развитию письменных форм просветительской деятельности, обращенных к региональным обществам и локальным культурам. Данное обстоятельство сделало грань между служебной и частной жизнью университетского человека еще менее разграниченной. Удержание границы требовало усилий и часто воспринималось коллегами негативно − как нарушение этоса просветителя. Тогда же университарии перестали объезжать учебные заведения округа. Это, с одной стороны, замкнуло их жизнь в пределах города, получившего на ментальной карте империи статус «университетского», а с другой, способствовало развитию письменных форм просветительской деятельности, обращенных к региональным обществам и локальным культурам. Данное обстоятельство сделало грань между служебной и частной жизнью университетского человека еще менее разграниченной. Удержание границы требовало усилий и часто воспринималось коллегами негативно − как нарушение этоса просветителя.Реформы середины XIX в. вовлекли российские университеты в иные социальные и политические отношения. Они породили иллюзию того, что «для управления обновленной страной понадобятся новые, настоящие знания о населении, о законах общественного, экономического и политического развития» [7]. В связи с этим значительная часть времени университетского человека второй половины столетия оказалась занятой не только исследованиями, но и участием в гражданских инициативах, общественных организациях, земских, городских и представительных органах самоуправления.  Вхождение в конце XIX в. в политику социальных слоев, ранее не участвовавших в ней, кардинальным образом повлияло на университетскую жизнь. Ее политизация расколола корпорацию на новые группы, породив явления «либеральной» и «реакционной» профессуры, «радикального» студенчества. Противостояние и конфликт данных групп разорвал цикличность учебного времени студенческими сходками и связанными с этим приостановками учебного процесса. Как следствие усилилась научная деятельность не вовлеченных в политическую активность профессоров, с одной стороны, а с другой − произошел отток из университетов преподавателей в политические организации [8]. Эти обстоятельства способствовали появлению в университете разных социальных времен. Вхождение в конце XIX в. в политику социальных слоев, ранее не участвовавших в ней, кардинальным образом повлияло на университетскую жизнь. Ее политизация расколола корпорацию на новые группы, породив явления «либеральной» и «реакционной» профессуры, «радикального» студенчества. Противостояние и конфликт данных групп разорвал цикличность учебного времени студенческими сходками и связанными с этим приостановками учебного процесса. Как следствие усилилась научная деятельность не вовлеченных в политическую активность профессоров, с одной стороны, а с другой − произошел отток из университетов преподавателей в политические организации [8]. Эти обстоятельства способствовали появлению в университете разных социальных времен.Темпоральность в источниковых текстах Описание свойств университетского времени и его восприятие основывается на анализе письменных текстов, созданных университетскими людьми и для них в России XIX в. Для исследования их целесообразно разделить на две группы: «дисциплинирующие» (законы, указы, постановления, инструкции, предписания, распоряжения, расписания), т.е. позволяющие реконструировать пространственно-временные условия жизни; и «парадигмальные», в которых мы можем выделить структуры мышления и рецепцию, т.е. выявить коды университетской культуры (дневники, письма, мемуары, некрологи, протоколы заседаний профессорского совета, материалы публичных защит, корпоративные самоописания в виде «историй университетов»). Историко-социологический подход к их изучению был применен автором в книге «Terra Universitatis: два века университетской культуры в Казани» [9] и использован при анализе архива Казанского университета в диссертационных исследованиях Т.Костиной [10] и Л.Сазоновой [11]. О социальном времени университетского человека в Москве XVIII в. писали И.П. Кулакова, В.В. Хорошилова, Л.Б.Пономарева [12], а применительно к профессорам конца XIX − начала XX в. − Т.Мауер [13]. Каждый исследователь стремился выявить специфические особенности темпорального распределения социальных функций данной группы. 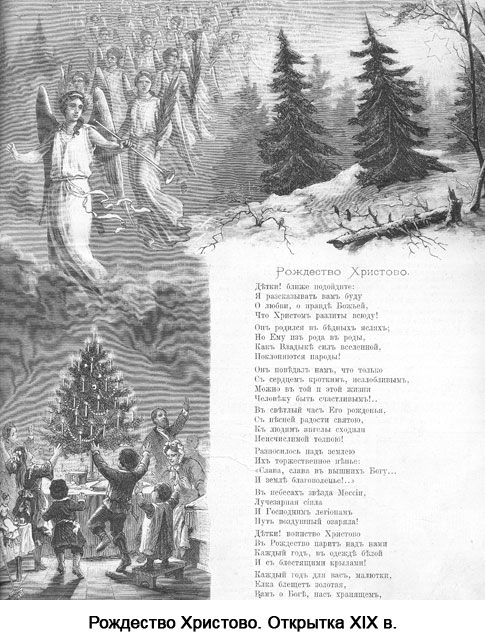 Вторая сторона данной темы − восприятие времени профессором и себя в нем − еще не была предметом изучения историков российских университетов. Документальной основой для ее анализа могут послужить персональные тексты, большую часть которых составляют дневниковые и мемуарные свидетельства. При работе с ними исследователю приходится постоянно иметь в виду свою зависимость от сохранившегося (являющегося результатом отсева и отбора) источникового комплекса и особенно от использованных в нем текстуальных стратегий нарративного и культурного самопонимания [14], а также от университетских практик запоминания [15]. Вторая сторона данной темы − восприятие времени профессором и себя в нем − еще не была предметом изучения историков российских университетов. Документальной основой для ее анализа могут послужить персональные тексты, большую часть которых составляют дневниковые и мемуарные свидетельства. При работе с ними исследователю приходится постоянно иметь в виду свою зависимость от сохранившегося (являющегося результатом отсева и отбора) источникового комплекса и особенно от использованных в нем текстуальных стратегий нарративного и культурного самопонимания [14], а также от университетских практик запоминания [15].Так, в случае, когда мы погружаемся в тексты памяти профессоров, важно помнить, что в данном случае читатель имеет дело со специфической рефлексией реальности, которая прошла через фильтры Просветительского проекта. Его ценности, идеалы, основные постулаты отчетливо видны в мемуарных и эпистолярных свидетельствах, а нередко являются их главной целью и структурой. В этом отношении персональные тексты университетских людей могут быть рассмотрены в качестве нарративного средства символического переутверждения или подтверждения ценностей. Поскольку в идеологии Просвещения университету отводилась роль двигателя социального прогресса, активное участие в монологах его служителей принимает категория «будущее». От его имени и в его интересах действовали просветители первой половины XIX в.; к нему готовились и его приближали вверенные их попечению студенты. «Всё соединилось к тому, чтобы предвещать человечеству новую и великолепную будущность»,− предсказывали университетские интеллектуалы [16]. В этой связи наука, распространением и производством которой занимались профессора, к которой они «приуготовляли» своих воспитанников, намеренно противопоставлялась современной (т.е. «текущей» и «изменчивой») политике и даже «сиюминутной» действительности. Этос науки служил не столько настоящему, сколько готовил наступление лучшего будущего. Поэтому в созданных летописях российских университетов описываются разные «прошлые времена» («тяжелое», «скудное», «былое», «прошлое», «старина», «старое время»), но все они повествуют о едином и неделимом «будущем времени».  В контраст их оптимизму и мажорности, в целом ряде мемуаров второй половины ХIХ в. будущее университета с предикатом «скорое» образует противоположную категорию: оно фигурирует в качестве негативного знака угрозы и ухудшения. Оно виделось современникам результатом вытеснения российских интеллигентов из пространства политики и сферы социальной активности [17]. Ему надо было противостоять, стараться изменить. В контраст их оптимизму и мажорности, в целом ряде мемуаров второй половины ХIХ в. будущее университета с предикатом «скорое» образует противоположную категорию: оно фигурирует в качестве негативного знака угрозы и ухудшения. Оно виделось современникам результатом вытеснения российских интеллигентов из пространства политики и сферы социальной активности [17]. Ему надо было противостоять, стараться изменить.Впрочем, кроме общекорпоративной специфики мемуарного письма, в нем есть особенности изложения, порожденные научной специализацией автора. Представители точных и естественных наук предпочитали вести своего рода хронику университетской жизни, называя в ней имена коллег и учащихся, фиксируя календарные числа, детально описывая места действий. Время в данных текстах буквально тикает датами. В отличие от протокольных свидетельств «естественников», из-под пера гуманитариев выходили сюжетные рассказы об университетской повседневности «вообще». В них время образует своего рода культурную среду повествования. Не претендуя на точность собственной памяти, историки, филологи, философы предупреждали читателя, что их записи – всего лишь продукт воображения на тему университета [18]. В комплексе текстов, созданных от имени студентов, университет определяется не столько как пространство жизни корпорации, сколько как один из возрастов интеллектуала, совпадающий с границами его физиологической молодости («таким образом распростился я с университетом и вынес из этого времени много отрадного») [19]. Видимо, поэтому многие сборники таких воспоминаний структурированы по «поколениям» («из истории студенческих беспорядков», «студенчество на перепутьи», «дореволюционное русское студенчество» [20]). В мемуарах бывших воспитанников (как правило, в момент письма довольно пожилых людей), студенческая жизнь описывается эмоционально и в категориях детства («время пребывания в университете и теперь живо представляется в моей памяти» [21]., «на первых шагах в университете», «ему я обязан первым своим философским развитием»; «прошло болеe сорока лет, я уже старик; но и поныне с удовольствием, даже с увлечением вспоминаю о беззаботном и счастливом времени студенчества» [22] и т.д.). Еще одна особенность студенческих воспоминаний состоит в том, что из доминирующих в русской мемуаристике матриц, описывающих жизнь либо как путь к Спасению («агиография»), либо как рассказ о перенесенных страданиях («исповедь»), бывшие учащиеся выбирали повествование о перерождении в стиле автобиографии Ж.-Ж. Руссо [23]. Соответственно, для вступающего в него юноши университет оказывался временем и местом духовного крещения («лекции этого профессора оказали на меня громадное влияние и произвели в моей духовной жизни решительный поворот» [24]). Темпоральность в целом внутренне присуща университетскому письму: дневники имеют поденные записи, организованные согласно протяженности дневных событий и их распределению внутри академического года; а мемуары выстраиваются как восходящая линия жизни, тянущаяся от биологического рождения через интеллектуальное перерождение в университете к бесконечной славе и вечной памяти корпорации и соотечественников. Замечательно, что это относилось не только к студентам и профессорам, но и к любому служащему университета («инспектором в то время был человек, о котором у всех старых студентов сохранилась благоговейная память» [25]). Время придавало рассказу направление и смысл. Управление временем или социальные времена В антропологии времени университетского человека очевидны следы темпоральных представлений разных социальных групп: бюрократической «линейности», ученической «цикличности» и священнической «бесконечности», связанной с представлениями о «бессмертии». Для всех служилых людей в Российской империи, в том числе для профессоров, была важна «долговременная беспорочная служба» − категории, в которых достоинство обреталось приращением срока пребывания в должности, профессиональным долгожительством, а не личными заслугами. В начале XIX в., прослужив 25 лет, преподаватель получал право на «полную» пенсию (когда размер выплат равнялся годовому окладу). За каждые последующие 5 лет службы ему добавлялась 1/5 часть пенсии» [26]. У «заслуженного профессора» была привилегия: он мог продолжать службу и получать при этом полную пенсию. Остальным приходилось выбирать: либо пенсия, либо оклад [27]. С 1835 г. половинный «пенсион» можно было получить за 25-летнюю выслугу, а полный – за 35 лет службы. Вместе с тем, правительство заверило, что будет допускать продолжение службы заслуженных профессоров только в виде исключения. Все служилые люди в империи стремились обрести как можно большую «выслугу» и при этом не надорвать здоровье на казенной ниве. Однако, если чиновник, как правило, не был защищен корпоративной поддержкой и нес персональную ответственность за выполнение служебных поручений, то в университете ситуация была иная. Отсутствие преподавателя на занятиях (из-за болезни, пьянства, домашних обстоятельств или поездки «по казенной нужде»), как правило, покрывалось перераспределением его обязанностей среди коллег. С одной стороны, это защищало и при благоприятном раскладе позволяло заниматься научными исследованиями. А с другой − такая практика поощряла иждивенчество. В результате университетская корпорация изобиловала физически слабыми и престарелыми людьми. Ограничения для них вводились только при занятии административных должностей. Архив Министерства народного просвещения изобилует такого рода свидетельствами: «Касательно ж Ординарнаго Профессора Брянцева за нужное почитаю объяснить, − сообщал московский попечитель, − что он при всем его усердии и неутомимом рвении, по старости лет его, по упадающим силам и по ослабевающему зрению, едва может с похвальнейшим успехом преподавать порученную ему лекцию, на которую еще силы его достаточны, но звания Декана требующаго особливой деятельности он отправлять не может» [28]. Молодые люди с хроническими заболеваниями, считавшие себя непригодными для военного или чиновного поприща, видели в преподавании и науке единственную возможность государственного применения («я боялся вступить в гражданскую службу по слабости здоровья; боялся оставить свои ученые занятия» [29]). В размышлениях университетских коллег по этим случаям высказывалась надежда, что пропуски занятий, а также перерывы в научных исследованиях будут скомпенсированы после выздоровления преподавателя. Таким образом, осуществлялся индивидуальный выход за пределы социального времени. Обладавшие богатым опытом корпоративного маневрирования, пожилые профессора без колебаний добивались удлинения срока собственной службы сверх нормы, воспринимая ее как необременительное получение дополнительных выгод (увеличение суммы пенсии, сохранение оклада, столовых денег или казенного жилья) за счет принудительного согласия молодых коллег взять на себя часть их обязанностей. Право на это аргументировалось ссылками на воспроизводящую себя университетскую традицию и аналогичные тяготы, перенесенные в молодости. В норме наличие в корпорации людей разных возрастов, представителей нескольких поколений является системным свойством университета. Оно обеспечивает передачу исследовательского и преподавательского опыта в режиме «из рук в руки» или «лицо к лицу». Однако естественное тяготение «ученого сословия» к «старению» и слабость, а то и отсутствие встречных механизмов его «омоложения» приводили в ситуации невнимания к университету верховной власти к застою и кризису. «В то время, − вспоминали выпускники, − между профессорами было еще много монстров, остававшихся от старого времени. Такими допотопными созданиями наполнены были словесный и юридический факультеты; им давали время на выслугу полного пансиона» [30]. Когда нарушения поколенческого баланса в университете становились вопиющими, часть корпорации сама просила власти силой закона ввести возрастные ограничения для пребывания профессоров на службе. «Гласное суждение в Совете о достоинстве своего сочлена, − признавались они в собственной неспособности решить проблему, − оказывается на деле весьма неудобным, и поэтому, вопреки глубокому убеждению членов университета, преподаватели остаются на своих местах с явным ущербом для пользы науки, препятствуют даровитым молодым людям поступать на убылые места и с новыми силами действовать ревностно для блага народного просвещения на занятых ими кафедрах» [31]. Живущие в условиях иной корпоративной культуры, чиновники скептически, а иногда и резко негативно воспринимали тяготение университета к геронтологическим моделям жизни («если мы судить людей будем только по давности университетского сожития, то и никогда не приведем университета в цветущее состояние» [32]) и периодически объявляли акции борьбы с ними. «Прослужившие усердно 25 лет в звании Профессора, − убеждало современников министерское предписание, − требующем непрестаннаго внимания и напряжения и достигаемом усильными занятиями с самых юных лет, по большей части чувствуют уже изнурение умственных и телесных сил, препятствующее им следовать внимательно за ходом усовершенствования наук и исполнять обязанности с точностью и желаемым успехом» [33]. Правительство рекомендовало университетским советам не просить министерство об исключениях (являющихся правилом) для заслуженных профессоров и заботиться о подготовке на профессорские звания способной молодежи. Однако, несмотря на понимание пагубности ситуации, в моменты «зачисток» связанная круговой порукой корпорация оборонялась против них и лишь в случае крайней необходимости жертвовала некоторыми своими членами. Как только буря правительственного негодования стихала, все восстанавливалось в прежнем виде. Не имевшее естественных механизмов саморегулирования, российское ученое сословие быстро возвращалось к геронтологическим проблемам и нормам. Со своей стороны, правительству не хотелось вмешиваться во внутрикорпоративные отношения и получать от престарелых профессоров обвинения в удушении российского просвещения. К тому же, ради общего правила политической власти пришлось бы отказаться от услуг исключительных ученых, имеющих мировую известность, и коим министерские чиновники второй половины XIX в. нередко были обязаны началом собственной карьеры. Поэтому, как правило, власти предпочитали оставлять этот острый вопрос на саморазрешение. Особый окрас профессорской темпоральности придавало преподавание. В качестве учителя университетский человек ощущал цикличность собственной жизни. Повторяемость учебных ритуалов рождала ощущение стабильности и неизменности времен («Как и сто лет назад в стенах университета звучат…»; «Эти лекции Шевырев неизменно повторял каждый год, даже с теми же примерами»,− вспоминали студенты [34]). Все это воспринималось как положительное качество, но лишь до тех пор, пока жизнь города или страны в целом не вступали с ней уж в слишком резкое противоречие. Так, в условиях усилившейся динамичности общества 1860-х гг. университетская неизменность стала ассоциироваться с «безвременьем». Тогда даже бывшие выпускники, склонные добродушно описывать старушку alma mater, признавались в том, что отвлеченные лекции были мало связаны с реальностью. Цикличность школьной жизни отразилась в специфических обозначениях временных отрезков и в характерном для университетского человека способе описывать «количественное время». Для сравнения напомню, что население Российской империи отмеряло время «гражданскими» (т.е. календарными) годами и 60-минутными часами, а университет говорил, писал и мерил свое существование «учебными» годами и изменчивыми (от 60 до 120 минут) «академическими» часами. В начале XIX в. учебный год в различных университетах Российской империи начинался в разные сроки. Например, в Казанском университете он брал начало в середине августа и заканчивался годичными экзаменами 10 июля. Во второй половине столетия академический год по всей империи был унифицирован: начинался 1 сентября и закрывался 21 мая. Вакационным был период с 21 декабря по 12 января и с 10 июня по 20 августа (с 1835 г. по 22 июля) [35]. Год делился на «полугодия», а учебная неделя состояла из шести дней по восемь занятий в каждом. В начале XIX в. они начинались в 7.15 по местному времени, а с 1840-х гг. – в 8 часов утра «по Петербургу» (по «пулковскому времени»). Полный цикл обучения по Уставу 1804 г. составлял три года на всех факультетах, кроме медицинского (будущие врачи учились четыре года). В реальности срок обучения был плавающим. «В те времена, – вспоминал выпускник Харьковского университета, – студенты оставались в университете по десяти и более лет; они посещали все факультеты и курсы, а чаще вовсе не ходили на лекции» [36]. Устав 1835 г. потребовал от университетов жесткого контроля за временем и качеством изготовления специалистов. В результате его введения студенты всех специальностей стали учиться четыре года, а медицине – пять. Индивидуальное растяжение цикла стало скорее редкостью, чем правилом.  В середине 1880-х гг. была сделана официальная попытка сломать цикличность учебной жизни. Тогда студентам была предоставлена возможность самим определять срок обучения (в том числе получать диплом посредством экстерната), время занятий и экзаменов. Но уже в 1890-е гг. все вернулось на круги своя, а эксперимент был признан неудачным, оставив по себе память о «вечном студенте». В середине 1880-х гг. была сделана официальная попытка сломать цикличность учебной жизни. Тогда студентам была предоставлена возможность самим определять срок обучения (в том числе получать диплом посредством экстерната), время занятий и экзаменов. Но уже в 1890-е гг. все вернулось на круги своя, а эксперимент был признан неудачным, оставив по себе память о «вечном студенте».Растущая интенсивность преподавательского труда сопровождалась увеличением времени, отданного в свободное распоряжение. Первое время безоговорочного права на ежегодный отпуск профессор не имел. Разрешение на него давал Совет «…только по самым необходимым обстоятельствам просителя» и не более чем на 28 дней [37]. По Уставу 1835 г. все профессора получили ежегодный отпуск в 30 дней, который можно было взять во время летних каникул с разрешения ректора. Кроме того, мог быть предоставлен отпуск на срок от одного до четырех месяцев с разрешения попечителя. Если же профессор отлучался из университета на срок более четырех месяцев, то он увольнялся от службы с правом вернуться на нее [38].  Поскольку в отличие от чиновника, служба профессора не была жестко привязанной к присутственному месту, затраченное им время с трудом поддавалось измерению и административному контролю. К тому же после утверждения в России модерного типа университета, преподаватель уже не мог ограничиться зачитыванием учебного пособия. Он нуждался в длительной подготовке к лекциям, разработке просеминаров и диспутов, ему требовалось время для составления отчетной документации, для проведения научных исследований и описания их результатов. При этом многими видами деятельности профессора занимались не в кабинетах, а дома («Я дорожил временем для своих домашних занятий» [39]). Поскольку в отличие от чиновника, служба профессора не была жестко привязанной к присутственному месту, затраченное им время с трудом поддавалось измерению и административному контролю. К тому же после утверждения в России модерного типа университета, преподаватель уже не мог ограничиться зачитыванием учебного пособия. Он нуждался в длительной подготовке к лекциям, разработке просеминаров и диспутов, ему требовалось время для составления отчетной документации, для проведения научных исследований и описания их результатов. При этом многими видами деятельности профессора занимались не в кабинетах, а дома («Я дорожил временем для своих домашних занятий» [39]).У многих современников (особенно у тех, кто по долгу службы должен был управлять просвещением) это создавало впечатление праздного образа жизни профессоров. Аргументом в пользу подобной оценки служило действительное присутствие в университетской среде тех, кто не удержался от соблазна воспользоваться бесконтрольностью служебного времени. Другое дело, что они являли собой контраст той части корпорации, которая в силу взваленных на себя обязанностей и высокой ответственности не имела свободного времени вообще. «Профессору дозволяется отдохнуть в вакационное время, – признавались они. Но может ли он действительно пользоваться этим отдыхом, когда с одной стороны ему предстоит годичный курс, требующий подготовки, а с другой общество и самая привязанность к науке требуют постоянных занятий?» [40]. В XIX в. интенсивность работы профессора в провинциальном университете была выше, чем в столичном. Чтобы быть успешным ученым в условиях скудной научной библиотеки и ограниченной экспериментальной базы, харьковчанам и казанцам приходилось тратить больше денег и энергии, чем их московским и петербургским коллегам. «Я прилагал все усилия, чтобы не отставать от своей науки при быстром ходе ее к усовершенствованию, – признавался харьковский хирург… – Я мог только через неусыпную деятельность оставаться нечуждым учености Европы, но всего должен был достигать двойными трудами» [41]. Впрочем, поскольку ни одна профессорская корпорация не была единой в своих этических ценностях и организации жизни, при анализе ее темпоральности уместно воспользоваться предложением Э.Дюркгейма и отличать социальное время от персонального в жизни человека [42]. На бытовом уровне в XIX в. длительность сигментировалась не часами, а неделями. Обыватели отсчитывали число семидневок, чтобы сообщить время нахождения в пути, доставку почты, дородовый срок, затраты на выполнение служебного поручения. Это характерно и для персональных текстов университетских людей при описании частной (но не служебной) жизни. Профессиональную сферу преподаватель отмерял «полугодиями», «академическими годами», «занятиями». Другой пример различия социального и персонального в отношении университетских людей ко времени дает делопроизводственная документация. Судя по содержащимся в ней заявлениям, в корпорации ценилось уважительное обращение с «чужим» временем. Пунктуальность ставилась в заслугу или в упрек и служила серьезным основанием для оценки коллег. Вместе с тем, на факультетских заседаниях постоянно рассматривались вопросы «трудовой дисциплины» и профессиональной этики: профессора и адъюнкты частенько опаздывали на лекции и корпоративные мероприятия, задерживали отчеты и выполнение работ, заставляя студентов и коллег подолгу ждать и тратить время впустую. Такая дезорганизация оправдывалась необходимостью нести одновременно разнородные обязанности – проводить научное исследование, осуществлять учебную практику и выполнять административные поручения. В реальности университетские люди делились на тех, кто отнюдь не переусердствовал в служебном рвении; кто все время посвящал чему-либо одному; и тех, кто наполнял его множеством дел, становясь заложником собственного ускорения («Отец был очень увлекающийся человек. С жаром и любовью он одновременно занимался наукой, газетой, археологией, искусством» [43]). Окончание следует ПРИМЕЧАНИЯ * Исследование выполнено при поддержке фонда Gerda Henkel Stiftung (проект AZ 02/SR/08).
[1] Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997; Bourdieu P. The Logic of Practice. Stanford, 1990; Zarubavel E. Hidden Phythms. Schedules and Calendars in Social Life. Berkeley, Los Angeles, London, 1981; Zarubavel E. The Standardization of Time: A Sociohistorical Perspective // American Journal of Sociology. 1982. Vol. 88. N 1.P. 1−23; Munn N.D. The cultural anthropology of time: a critical essay // Annual Review Anthropology. 1992. N 21. P. 93. [2] Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 737. Оп. 1. Д. 154 «Проект устава университетов С.-Петербургского Московского, Харьковского и Казанского. Четыре экземпляра с различными поправками и изменениями» (1830−1834). [3] Уставы Императорских Московского, Харьковского и Казанского университетов 1804 г. // Сб. постановлений по М-ву народ. просвещения. СПб., 1873. Т. 1. Стб. 301−302. [4] Общий устав Императорских Российских Университетов 1835 г. // Сб. постановлений… Т. 2. Ч. 1. Стб. 982. [5] РГИА. Ф. 733. Оп. 50. Д. 663 «Дело об осмотре министром народного просвещения университета и других учебных заведений Харьковского учебного округа. Историческая записка о Харьковском университете. 1851. Л. 7.
[6] Национальный архив Республики Татарстан (далее НАРТ). Ф. 92. Оп. 1. Д. 1513 «Ведомости о происшествиях в Казанском университете
28 апреля 1822 − 20 мая 1826 г.». Л. 48.
[7] Могильнер М. Homo imperii: история физической антропологии в России (конец XIX − начало XX в.). М., 2008. С. 16. [8] Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. М., 1991. С. 245−252. [9] Вишленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А. Terra Universitatis: два века университетской культуры в Казани. Казань, 2005. С. 312−321. [10] Костина Т.В. Мир университетского профессора Казани. 1804−1863: дис. … канд. ист. наук. Казань, 2007. [11] Сазонова Л.А. Повседневность казанского профессора. 1863−1918: дис. … канд. ист. наук. Казань 2009. [12] Университет для России. Т. 1−2 / ред. В.В. Хорошилова, Л.Б. Пономарева. М., 1997, 2001; Кулакова И.П. Университетское пространство и его обитатели. Московский университет в историко-культурной среде XVIII века. М., 2006. [13] Maurer T. Hochschullehrer im Zarenreich. Ein Beitrag zur russischen Sozial- und Bildungsgeschichte. Koeln-Weimar-Wien (Boehlau), 1998. (Beitraege zur Geschichte Osteuropas 27). [14] Markowitsch H., Welzer H. Das uatobiographische Gedachtnis. Hirnorganische Grundladen und biosoziale Entwicklung. Stuttgart, 2005. S. 215−224. [15] Zarubavel E. The Rigid, the Fuzzy, and the Flexible: Notes on the Mental Sculpting of Academic Identity // Social Research. 1995 (62). P. 1093−1106; Zarubavel E. Language and Memory: «Pre-Columbian» America and the Social Logic Periodization // Social Research. 1998. Vol. 65. N 2. P. 315−330. [16] Чичерин Б.Н. Студенческие годы. Москва сороковых годов // Московский университет в воспоминаниях современников (1755−1917). М., 1989. С. 375. [17] Ковалевский М.М. Московский университет в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века // Московский университет …С. 491. [18] Там же. С. 485. [19] Бестужев-Рюмин К.Н. Воспоминания // Московский университет …С. 371. [20] Памяти русского студенчества конца XIX − начала XX веков: сб. воспоминаний. Париж, 1934. [21] Ничпаевский Л. Воспоминания о Харьковском университете 1823−1829 гг. // Харкiвський унiверситет XIX –початку XX ст. у спогадах його професорiв та вихованцiв. Харкiв, 2008. Т. 1. С. 57. [22] Оже-де-Ранкур Н. В двух университетах. Воспоминания 1837−1843 годов // Русская старина. 1896. Т. 86. № 6. С. 582. [23] Morrissey S.K. Heralds of Revolution. Russian Students and the Mythologies of Radicalism. N. Y., 1998. P. 5. [24] Костомаров Н.И. Студенчество и юность. Первая литературная деятельность // Харкiвський унiверситет… С. 57, 180. [25] Чичерин Б.Н. Студенческие годы…. С. 376. [26] Научное наследство. Т. 12. Новые материалы к биографии Н.И. Лобачевского / сост. Б.В. Федоренко. Л., 1988. С. 249. [27] Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1875. Т. 2: Царствование императора Николая I. 1825−1855. Отд. I. 1825−1839. С. 991. [28] РГИА. Ф. 733. Оп. 28. Д. 71 «По представлению Попечителя Московскаго Университета Графа Разумовскаго об исходатайствовании утверждения на нынешний год Ректором профессора Гейма также и об утверждении Деканами факультетов им представляемых профессоров Брянцева, Прокоповича-Антонскаго, Рихтера и Матеи». 1811 Л. 18. [29] Степанов Т.Ф. Из «Автобиографии» // Харкiвський унiверситет… С. 50. [30] Михайлов И.И. Казанская старина. Из воспоминаний // Русская старина. 1899. № 11. С. 109. [31] НАРТ. Ф. 977. Оп. Ректор. Д. 1244. Л. 1−1 об. [32] Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского государственного университета (далее ОРРК НБ КГУ). Ед. хр. 4777 «Письма М.Л. Магницкого ректору Г.Б. Никольскому». Письмо № 7 от 20 января 1822 г. Л. 3. [33] О дополнительных правилах относительно поручения Заслуженным профессорам кафедр в Университетах и других высших учебных заведениях // Сб. постановлений… Т. 2. Ч. 1. Стб. 624. [34] Афанасьев А.Н. Московский университет (1844−1848) // Московский университет... С. 59. [35] Общий устав Императорских Российских Университетов 1835 г. // Сб. постановлений… Т. 2. Ч. 1. Стб. 984. [36] Ничпаевский Л. Воспоминания… С. 59. [37] Сравнительная таблица уставов университетов 1884, 1863, 1835 и 1804 гг. СПб., 1901. Стб. 64. [38] Свод законов Российской империи. Т. 3. Стб. 76−78. [39] Степанов Т.Ф. Из «Автобиографии»… С. 46. [40] НАРТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 4552. Л. 1−1 об. [41] Еллинский Н.И. Автобиографическая записка // Харкiвський унiверситет… С. 56. [42] Durkheim E. The Elementary Forms of the Religious Life. L., 1915. P. 441. [43] Загоскина О.Н. Воспоминания о Николае Павловиче Загоскине. Казань, 2002. С. 7. © Вишленкова Е.А., 2011
Статья поступила в редакцию 25 октября 2010 г. Вишленкова Елена Анатольевна,
доктор исторических наук, профессор,
заместитель директора Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева НИУ − Высшая школа экономики (Москва) e-mail:evishlenkova@mail.ru |
Издатель |
||
© Российский институт культурологии, 2010-2014. © Российский научно- исследовательский институт культурного
и природного наследия
имени Д.С.Лихачёва,
2014-2026. |
Все статьи в журнале публикуются под лицензией |
|
